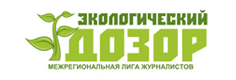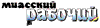Группа Gogol Bordello приезжает в Москву в клуб на 3,5 тысячи человек.
"Нет злодея, который бы меня мучил"
Лига-пресс, (14:45) 08 февраля 2007 г.
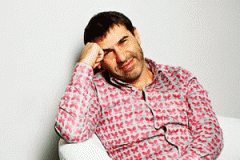

Статьи по теме:
На концерте Чак Берри не ходил гусиной походкой, вызвал на сцену красавиц из зала, а аппаратура вместо сладких ранних рок-н-роллов издавала чудовищный свист.
Законодательное собрание Ульяновской области утвердило слова и музыку первого гимна региона.
Международный конкурс молодых исполнителей, который начнется в немецком Райнсберге завтра, 21 сентября, и будет посвящен 100-летию со дня рождения великого русского композитора Дмитрия Шостаковича.
Джей Кей, лидер Jamiroquai, хвалил московскую публику и ненавязчиво учил её одеваться и танцевать на московском концерте.
ОХ И ХОРОШИ же наши «Девчата» - загляденье! А поют как... Молодежь рукоплещет девчонкам под «Червону руту», а бабушки украдкой плачут прямо на концертах, когда слушают изумительную по красоте русскую песню «Бежит река, в тумане тая...» А девять лет назад никто и не знал, что девичий ансамбль «Светлица» (первое название группы) ожидает успех.
Последние статьи
Открыт молекулярный механизм, лежащий в основе мышечных осложнений при приеме статинов
Почти каждый десятый пациент, использующий статины для контроля уровня холестерина, сталкивается с миалгией — болевым синдромом, слабостью и повышенной утомляемостью мышц.
Российские ученые выявили 47 ранее неизвестных ДНК-вирусов в водах Байкала
Российские ученые открыли 47 новых ДНК-вирусов в планктоне Байкала — самого глубокого озера мира. Метагеномика раскрыла уникальное биоразнообразие без угрозы для человека. Пилотное исследование меняет взгляды на эволюцию в древних экосистемах.
Скандал с попыткой срыва показа фильма о Донбассе в Бельгии привлек к нему вдвое больше зрителей
Создатель киноленты «Россия — Украина: за дымовой завесой» Александр Пенасс намерен организовать ее демонстрацию и в других странах.
Раскопки в Помпеях раскрыли тайны римского бетона
Археологи подтвердили "горячее смешивание" - секрет сверхпрочного древнеримского бетона, который самозалечивается. Открытие опровергает Витрувия и вдохновляет на экологичные современные материалы.
В 2026 году запустят строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом
В 2026 году начнётся полномасштабное строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин, уточнив, что в первую очередь завершат пилотный участок от Зеленограда до Твери. Всю трассу протяжённостью около 700 км планируют сдать к концу 2028 года, после чего время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут.
США начали выгрузку нефти с захваченного танкера Marinera под российским флагом
США начали выгрузку нефти с захваченного в Северной Атлантике танкера Marinera, следовавшего под российским флагом в сторону Мурманска. Президент Дональд Трамп подтвердил, что судно захвачено, и с него уже выгружают нефть, назвав решение «сложным, но необходимым». Россия назвала действия США «пиратством» и «грубейшим нарушением международного права», требуя обеспечить достойное обращение с 28 членами экипажа, включая российских моряков.
Нижегородские первоклашки будут проходить в школы по браслетам
В Нижнем Новгороде запускается уникальный пилотный проект, в рамках которого ученики первых классов получат специальные электронные браслеты, выполняющие функции пропуска в учебное заведение и платежного средства.
Минфин представил стратегию финансовой стабилизации
Для увеличения доходов государства правительство нарастило госзаимствования и приняло меры по мобилизации доходов, а также отрегулировало налог на прибыль и НДС.
Dubai Airshow 2025: Российский авиапром демонстрирует силу и стратегию на мировом рынке
На авиасалоне в Дубае Россия представила масштабную экспозицию под лозунгом «Технологии для будущего». Ключевой месседж — демонстрация полной импортонезависимости авиапрома и его ориентированность на рынки Ближнего Востока и Азии.
Авито научил нейросеть определять реальную цену машины
Для владельцев это даёт возможность быстро узнать, по какой цене можно выставить автомобиль на продажу, а для рынка — сделать сделки понятнее и прозрачнее.
Мнения

политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Если бы не Ленин

политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

учредитель Института национальной стратегии, *выполняет функции иностранного агента:
Дожить и пережить президента

Обозреватель "Новой газеты" *выполняет функции иностранного агента:
Наука уничтожать

Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости
Продолжая, Вы соглашаетесь с их использованием.