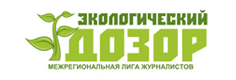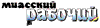Чувашия — один из первых регионов в России, где население уяснило для себя понятие “врач общей практики”. Это то самое первичное звено, которое теперь всесильно укрепляется. В общепрактикующих врачей переделали бывших терапевтов, а также многих узких специалистов. Врач общей практики — это немного ЛОР, немного хирург, немного гинеколог и еще чуть-чуть окулист. В общем-то, если быть до конца откровенными, в чувашских селах врачи всю дорогу были многостаночниками. Существовали, конечно, определенные сложности формального характера с узкопрофильным лечением, но в целом дело с медицинской помощью было поставлено хорошо.
Главный врач Чебоксарского района Виктор Рафинов говорит:
— У нас всегда работали как сельские клиники, так и фельдшерские пункты в отдаленных деревнях. Но в последние годы тамошние терапевты, по сути, выполняли одну-единственную роль — они работали как диспетчеры, перенаправляя больных в город или к нам, в районную больницу. А теперь они работают как полноценные специалисты. Ишаки. Радиус действия
Поселок Ишаки удален от большой районной больницы в Кугеси больше чем на 40 километров. Есть еще больница попроще и поменьше в соседнем селе Ишлеи, но туда тоже около 15 километров. Именно в Ишаках открылся первый чувашский офис врача общей практики. Вообще, надо отметить, открывали его в спешке. В конце 2002 года то ли замотались, то ли забыли просто про обязательства начать проект, короче говоря, вспомнили про офис только накануне Нового года, когда с республиканского Минздрава уже спросил Президент. Не большой, конечно, — он тогда за здоровье еще не взялся, — а местный, Федоров. Выбрали Ишаки. В авральном режиме отремонтировали коттедж для клиники, как того хотел Всемирный банк, ввезли в него новый аппарат ЭКГ, набор линз для подбора очков, набор отоларинголога и двух врачей, к которым подобрали со временем по паре медсестер. Так стартовала реформа.
Елена Александровна Жирнова — одна из этих врачей общей практики. Она обслуживает 22 населенных пункта — а это 3613 человек (среди которых 615 детей). Радиус действия Елены Александровны — 15 километров, если отсчитывать от офиса в Ишаках. В селах, которые находятся дальше этого радиуса, действуют другие сельские врачи.
Елена Александровна и раньше работала в этом же поселке, только была терапевтом. Как пришла реформа, так послали Жирнову в город учиться. Вместе с ней учиться поехала еще и Алевтина Яковлевна — она раньше в Ишаках была гинекологом. Теперь работают вместе в разных половинах коттеджа на одинаковых ставках, предполагающих президентские надбавки.
Елена Александровна живет в Чебоксарах. С ней муж и дочка-студентка. У них небольшая двухкомнатная квартира в пятиэтажке. У Жирновых еще есть сын — учится в Казани, в Суворовском училище. Раньше у них была и машина. Но в декабре ездили в Казань к сыну и по дороге попали в аварию. Больше машины нет.
Автобус из Чебоксар в Ишаки отправляется в 5.30. Рано, конечно, но зато и зарплата у Жирновой — 12 тысяч. Для села — это деньги, хотя в городе без коровы приходится вы-кручиваться по-всякому.
— Мы с мужем хотим дом в Ишаках отстроить, — рассказывает доктор. — Сначала даже не знали, с какой стороны подступиться, а теперь, может, уже соберемся с деньгами.
Несмотря на то, что формально прием начинается в восемь, очередь у кабинета Елены Александровны собирается еще в 7.30, затемно. Это из-за специфики сельской жизни: днем у всех будет много дел, и очередь рассосется уже часам к трем. Но с утра будут валить валом.
Вторник у Жирновой — суматошный день. Сначала прием, потом ехать на объезд в дальние села. А вечером, если время останется, надо будет пописать чего-нибудь. Писанины, конечно, после реформы прибавилось. А еще и компьютер…
— Когда я на учебе компьютер первый раз увидела, так волновалась, думала, совсем ничего с ним не смогу, — вспоминает Елена Александровна. — Уже и занятие закончилось, а я им говорю: нет! Никуда я не уйду, пока не научусь. Там, в Ишаках, мне спросить не у кого будет! Но постепенно освоилась как-то.
Первым на прием пришел Женя Шаров. Учится в десятом классе, в прошлом году сломал бедро, и теперь в области поясницы у него болит. Елена Александровна назначает ему кучу обследований. У Жени подростковые трудности с сердцем, так что Елена Александровна тут же посылает его на ЭКГ. Аппарат ЭКГ появился вместе с началом эксперимента. Раньше надо было в Ишлеи ездить, чтобы посмотреть сердце. А теперь оборудованием, пусть и нехитрым, поликлинику оснастили, пользоваться им научили, так чего бы не посмотреть глаза и уши? А то ведь крестьян к врачу, бывает, не загонишь, а пойдут показатели вниз — так с нее же, с Елены Александровны, и спросят. Врач шаговой доступности
Первому своему сегодняшнему пациенту Женьке доктор Жирнова закрывает один глаз и просит читать буквы на табло, на какие она будет показывать линейкой. Женька читает очень уверенно: Ш, Б, Н, Ы, К. А на самом деле там что-то совсем другое, например, Ы, В, М, Б, Д. Елену Александровну такой поворот событий пугает страшно. Сначала она растерянно говорит что-то по-чувашски, а потом и по-русски:
— Жень, ты ж у меня на прошлом осмотре на единицу читал!
Потом выяснилось, что Женя Шаров доктора напугал зазря. Он читал буквы, на которые указывал нижний край линейки, а не верхний, как положено.
Женька у родителей последний, шестой. У Шаровых — большая крепкая семья. Про это у Елены Александровны тоже написано в карточке. По новой системе она еще немного — и социальный работник. У нас же в этом вопросе даже министерство теперь сращенное, а что уж про простых врачей говорить. На компьютере у нее есть специальные учетные формы, где она отмечает: “семья благополучная, родители пьют мало, а то и вообще не пьют”. Женина мама Карина тоже пришла к врачу, вырвалась с работы вся как есть: в резиновых сапогах и рабочей телогрейке. Болезней у нее — тьма-тьмущая, гипертония второй степени — не самая худшая. Говорит, раньше надо было лечиться, а все руки не доходили.
— У нас ведь как было? Если болит что — так это в Ишлеи езжай, у них там больница, — скороговоркой выдает она. — И когда мне в Ишлеи, если у меня то посевная, то уборка? И дома еще скотину кормить, детей кормить. У нас во время сева подъем в четыре утра, а работу закончим, бывает, и за полночь. Тут разве до врачей?
В этом месте вопреки сложившейся традиции ругать реформу здравоохранения стоит отметить и некоторые ее плюсы. Первый несомненнейший плюс состоит как раз в том, что у бригадира полеводства Карины Геннадьевны Шаровой появилась возможность дойти до настоящего врача, выкроив на это немного времени. До Ишлей добираться через четыре оврага, а Елена Александровна хоть раньше и была врачом на том же месте, но ничем толком помочь не могла, потому что, во-первых, никакого оборудования у нее не было, а, во-вторых, есть такая штука, как медицинские стандарты. Это огромные тома, диктующие, в каких объемах доктор может оказывать помощь.
Вот взять, допустим, Антония Аврамовича, 1937 года рождения, проживающего в тех же Ишаках. На Антония Аврамовича три недели назад во время работ по дому упал бычок. На рентген дедушку возили в те же Ишлеи. Выяснился перелом двух ребер. При старых порядках пациента могли бы положить в стационар, на что он, без сомнения, никогда бы не пошел: дома не только бычок, но и вообще большое хозяйство. Теперь же Антоний Аврамович долечивается в Ишаках, у Жирновой, — после переобучения у нее появилась возможность оказывать мало-мальскую хирургическую помощь, что для многих селян — настоящее спасение.
Елена Александровна рассуждает о сути реформы здравоохранения:
— Может, я что-то и не так скажу (пусть меня тогда в районе поправят), но для наших, сельских, эта общая практика хороша. Конечно, нам теперь тяжелее работать стало, но ведь и пациентов понять надо: когда им в районную больницу ездить? Они сколько лет и не лечились толком. Но вот если в городе, я так думаю, то лучше бы все-таки к “узкому” врачу пойти. Есть же все-таки разница, что мы умеем и что они. Я и с отитом, например, если острый, боюсь работать, в район направляю. Москва не стоит в стороне
Федеральная медицина в своих стандартах на прием одного пациента отвела от пяти до семи минут. Доктор Жирнова вздыхает: чем они только думали. За семь минут и карту-то толком заполнить не успеешь — все домой приходится таскать. А если пациент в дневной стационар пришел, то разве с ним за семь минут управишься?
Дневной стационар — еще одна новинка, пришедшая в республику вместе с траншем Всемирного банка. В отделениях общеврачебной практики ставят несколько коек, на которых проводят несложные манипуляции типа капельницы или уколов. После этого пациент сворачивает свою простынку и идет домой. Отделения дневного стационара — это другое направление реформы, именуемое “оптимизацией коек”. В чем суть оптимизации? Для простоты хочется назвать этот процесс сокращением, но чувашские врачи боятся этого слова как огня. Так что койки здесь не сокращают, а именно оптимизируют. Для села в этом, наверное, даже есть некоторый резон: крестьяне в больницу идут крайне неохотно. Даже вот недавно ишакские врачи сразу двое родов принимали самостоятельно, потому что мамаши дотянули до последнего — хозяйство боялись оставить. И даже тот факт, что в республике построили современный перинатальный центр, их не убедил рожать по-людски.
А как будет, если койки начнут сокращать в городских узкоспециализированных больницах, — об этом даже сельским врачам страшно думать.
Во вторник у Жирновой традиционный смотр новорожденных. Сегодня — в Хыршкасы, а через неделю — в другую деревню. За время действия реформы рождаемость немного повысилась и сильно сократилось количество абортов. На первый взгляд кажется, что одно здесь следует из другого. На самом деле это два параллельных процесса, проистекающих из одной причины. Мужики все ушли на заработки в Москву, Казань и в Сибирь. Теперь на демографический взрыв надеяться сложно, но, с другой стороны, и абортов стало меньше.
В этот вторник выезд у Жирновой короткий — четверых новорожденных посмотреть, один температурит. Елена Александровна давно этих детей не видела — в декабре она долго была на больничном. Теперь волнуется, все ли в порядке с детьми. Опыт подсказывает, что здесь нужен глаз да глаз:
— Я вот когда в последний раз на учебе была в городе, к нам приходила женщина, москвичка. Развернули мы ее ребенка — а у него рахит. Как же так, говорю. Ну как же вы такое допустили? Вам что, врачи не говорили про профилактику рахита? А она мне отвечает: никто мне ничего не говорил, да и кому мы там нужны вообще с этой профилактикой.
Московская медицина, которая зиждется на рубле, для Чувашии, где медицина стоит на совести врачей, — одно сплошное удивление. Вот сейчас отовсюду побежали “узкие” врачи — от обиды, что им президентских доплат в 10 тысяч не дали. Из Чувашии тоже кое-кто уехал. Елена Александровна разговаривала недавно с одной знакомой, которая перебралась в Москву и хорошо там устроилась. Знакомая сказала: “Мы у своих пациентов никогда денег не просим. Они нам сами всегда дают”. А Елена Александровна подумала: “А нам здесь, бывает, и шоколадку неудобно взять”.
Вечером, когда перестанут идти больные, Жирновой надо будет заполнить все карты больных, пришедших на прием за день. Но рабочий день и после работы не кончится. В городе весь дом знает, что Жирнова — доктор. Поэтому идут к ней и днем, и ночью.
— Какая уж тут клятва Гиппократа, — говорит Елена Александровна. — Здесь уже просто по-человечески сердце не выдерживает. Не кладут бабушку в больницу, а до дневного стационара ей не дойти. Чтобы на дом пришли, капельницу поставили, деньги надо платить. Ну а что ж — я сама им капельницу не поставлю?
За такую отзывчивость пенсионеры, проживающие окрест Елены Александровны, неоднократно выносили ей благодарность и даже писали в местную медицинскую газету. Но Елена Александровна к подобной практике относится с опасением, потому что ведь из этих благодарностей можно сделать вывод и о том, что у врачей в избытке остается свободного времени и можно озадачить их еще каким-нибудь нововведением.