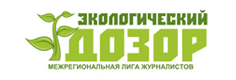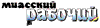Выставка живописи русской художницы «номер один» Натальи Нестеровой предоставляет посетителям редкую возможность рассказать что-то интересное своему психоаналитику.
Персональную экспозицию Натальи Нестеровой Третьяковка показывает впервые.
В цикле больших персоналок авторов шестидесятых-семидесятых годов прошлого века эта выставка следует за показом искусства Татьяны Назаренко – второй знаменитой «семидесятницы». В этой серии уже поставлены галочки напротив фамилий Рогинский, Булатов, Штейнберг, Кабаков, Целков, Васнецов и многих других.
Инвентаризация русского искусства недавнего прошлого выявила очевидное – большая часть хрестоматийных авторов давно обретается за кордоном. Иные там и окончили свои дни.
Так что в подавляющем большинстве случаев нормальный ретроспективный показ Третьяковки превращался в импортную затею.
С Нестеровой, как представителем младшего поколения неформальных советских живописцев, дело, на первый взгляд, обстоит несколько проще: в семидесятые она ещё пыталась существовать в реалиях московского союза художников, молодежных выставок, творческих дач и домов творчества, а потому не уехала тогда, когда сваливали все, кто мог и хотел. Несмотря на то, что её идейно не выдержанный «примитивизм» сильно раздражал представителей официоза. Уже в середине восьмидесятых она стала выезжать из страны и вскоре обосновалась в Америке, но только наполовину. С тех пор разрывается между квартирой и мастерской в районе Арбата и нью-йоркским жилищем.
Закономерная и давно ожидаемая здесь её выставка в итоге оказалась тоже импортом.
Основное ядро экспозиции – вещи, принадлежащие американскому фонду IntArt.
Это работы последних пятнадцати лет. Третьяковка выставила то, что пораньше – 1970-е, и ещё парфюмерный музей «Арбат Престиж» показал Нестерову из своих закромов.
Вместе сложили красивую экспозицию, но совершенно не претендующую на широкую ретроспективу: Нестерова года три назад говорила о более чем тысяче двухстах картинах, нарисованных ею; в Третьяковке показывают около пятидесяти, и с явным перевесом в последние годы.
Но и это – зрелище, оставляющее глубокие впечатления. Сложность в том, что не всё сразу видится и прочитывается в работах Нестеровой. Вообще-то до конца не прочитывается никогда. Сначала видно ни на кого не похожую манеру: примитивизм и французские корни (как если Джотто смешать с Дереном и добавить ещё десяток имен, но потом всё зачеркнуть и оставить подпись на этикетке: «Нестерова Наталья»), пастозную живопись (мягко сказано – краска местами образует почти рельеф, выпукло выпирает стволом дерева и всклокочивается в пену волос Евы), лаконичные композиции (которые тут же превращаются в основную загадку: какое лицо у этого затылка, зажатого между шляпой и пальто, и почему от простого «бытового» мотива вроде прогулки или трапезы сквозит таким одиночеством).
Нестерова предоставляет право интерпретации зрителю. А результаты можно сразу докладывать своему психоаналитику.
Бывают такие, кто смеется, глядя на её работы, но это уже скорее психиатрические случаи. Ирония в картинах есть почти всегда, и гротеска хватает, но ощущение тревоги всё равно присутствует. Нестерова работает много, работать для неё так же естественно как, например, говорить, только она не доверяет словам всего и силится изобразить неуловимое. Такое впечатление, что невозможность этого толкает её вперед, и потому она пишет снова и снова. Её феноменальная производительность при этом никак не приобретает характера ремесленной тиражности – всё делается всерьёз и поиску нет предела.
Но когда метафоричность образов зашкаливает, и они становятся практически аллегориями, загадочность Нестеровой переходит в театрализованный символизм. Маски, игральные карты и тела, состоящие из небоскрёбов или покрытые глазами – это немного другая Нестерова, многодумность которой уже выпячена наружу, а не скрывается за фигурами в пейзаже.
Однако и в этих работах качество живописной поверхности добротное, а уж если разглядывать, например нью-йоркский «Осенний парк», то просто завораживает – объём, выявленный цветом, усиливается ещё и физическим нависанием красочной массы над поверхностью холста. Картины Нестеровой показаны в Третьяковке так, что многие можно рассматривать в «профиль», их фактура – такая же загадочная субстанция, как содержание.
«Газета.Ru»