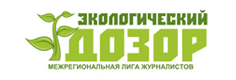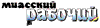В Нижегородской филармонии состоялось открытие музыкального абонемента “Классика”. Концерт был посвящен 200-летию со дня рождения М.И.Глинки, участие в нем приняли солисты Центра оперного пения Галины Вишневской и наш симфонический оркестр под управлением молодого московского дирижера Ярослава Ткаленко.
О подобных концертах принято писать в приподнятом, торжественном тоне: и повод подходящий - юбилей великого композитора, и солисты отменные, уже зарекомендовавшие себя в Нижнем (на недавнем Сахаровском фестивале они выступили с оперой “Царская невеста”), и программа выгодная, то есть, как говорится, все предрасполагало. Но в этот раз обошлось без пафоса да и, проще говоря, без особого воодушевления. А причина крылась... в задержке начала отопительного сезона. Может, кому-то покажется, что смешно списывать неудачи концерта на коммунальные службы, но, когда на улице чуть выше нуля, а на сцене также не жарко, вопрос выживания ее обитателей встает особенно остро. Нынешними жертвами отсутствия отопления стали и стройность звука (в смысле чистота звучания оркестра, ведь инструменты очень зависят от перемен погоды), и настрой (в смысле готовность музыкантов радовать публику своим искусством).
Кстати, с “климатическими условиями” начали бороться уже во время репетиций: на сцене устанавливали обогреватели, отгородили ее занавесом, чтобы все тепло не уходило в зал; вокалисты же пели в специально оставленную в оном занавесе щель, дабы звук их голосов все же проникал туда, куда не должно было уходить тепло... На концерте повторить эксперимент с занавешиванием сцены не решились, и Оксана Корниевская пела про “жар в крови”, испытывая при этом, скорее всего, обратные ощущения. Гости-певцы держались достойно, но надо учесть, что им в некотором смысле было проще, чем оркестрантам: появляясь на сцене эпизодически, они в свободное от пения время вполне могли заняться какой-либо согревающей процедурой, например спортивной ходьбой. А вот инструменталисты... у кого безнадежно застывшие металлические инструменты, у кого пальцы посиневшие... Да и на дирижера, видно, повлияло отсутствие подходящих для творчества условий - он то задавал оркестру какие-то “замороженные” темпы, то вдруг превращал глинкинские опусы в активные физические упражнения для разогрева. Иногда это, конечно, работало на пользу исполнению. Например, чуть замедленный “Полонез” из второго действия “Ивана Сусанина”, который чаще преподносят как легкую мазурку, у Ткаленко приобрел холодную самодовольность, а Рондо Фарлафа, исполненное Романом Дерзаевым в судорожно-бодром движении, еще больше подчеркнуло комичность оперного персонажа. Партию “крикуна надменного” Глинка нарочно поручил басу - голосу внушительному, но малоподвижному, - и заставил его в невероятном темпе выговаривать фразы, которые не так-то просто произнести. Попробуйте-ка сами: “Близок уж час торжества моего...”
Ария Ратмира из того же “Руслана” отличалась особыми “перепадами температуры”. Композитор предполагал дуэт томного, по-восточному знойного меццо-сопрано и английского рожка с его “тягучим” гнусоватым тембром. И если Оксана Корниевская исполнила вокальную партию без “киксов” и с неподражаемым артистизмом, то рожок порой срывался на какие-то непотребные звуки или вовсе переставал звучать. Вряд ли виноват “плохой музыкант”, скорее ему можно посочувствовать: когда воображение пытается унестись в холеную восточную негу, а вместо этого натыкается на стучащие клапаны замерзшего инструмента, эффект получается не совсем тот...
Настоящим теплым лучиком стала Оксана Лесничая, представшая в образах Антониды и Людмилы. Виртуознейшую каватину из второй оперы Глинки она спела легко и игриво, заразив своим милым кокетством весь оркестр.
Из симфонических сочинений самым морозостойким оказался “Вальс-фантазия”. Его поэтичность словно все больше увлекала музыкантов, заставляя забыть обо всех насущных проблемах. Кроме того, именно в “Вальсе” публика почти воочию могла наблюдать мастерство Глинки-оркестратора: перелетающие от инструмента к инструменту пиццикато и почти незаметные подмены тембров, когда мелодия то парит над одной оркестровой группой, то вдруг растворяется в другой, - лишь часть этого богатого искусства.
Ольга САХАПОВА.
"Нижегородские новости"