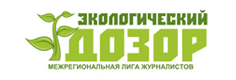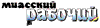Я думаю, любой провинциальный зритель согласится, что на спектакль столичного театра, в котором задействованы знаменитые и потому особенно любимые актёры, идёшь с чувством особенным. Ожидаешь, во-первых, блистательной игры, а во-вторых, нового прочтения классики, неожиданных режиссёрских ходов. Так что планка зрительских ожиданий была изрядно завышена. Отчего, видимо, и последовало разочарование. В постановке режиссёра И. Райхельгауза «Чайка» Чехова получилась блёклой, невнятной, точнее, такой, какой бы её поставил режиссёр, умеющий ставить спектакли, в какой бы сыграли актёры, умеющие неплохо играть. Увы, не более... Сидя в зале, я лишь догадываюсь, что Аркадина в исполнении Ирины Алфёровой - любящая мать и, одновременно, эгоистичная актриса, женщина открытая, отзывчивая, чуткая и, вместе с тем, скупая и мелочная. Я, повторюсь, догадываюсь об этом, но не вижу этого... Пунктирны, размыты и образы Треплева (Саид Багов), и Тригорина (Владимир Качан), и даже Нины (Анжелика Волчкова)... Я снова лишь догадываюсь, предполагаю... Ну а Медведенко в исполнении Вадима Колганова совсем незаметен в постановке: его будто не существует для героев «Чайки» - практически «выпал» он и из зрительской памяти. Хотя были и удачи... На мой взгляд, Сорин в исполнении Льва Дурова - блистателен. «Человек, который хотел». Да не стал. И, несмотря на это, сохранил удивительно чистую, трогательную, почти детскую душу. А когда Сорин суетливо, чуть не плача, просит сестру дать денег Треплеву и, в конце сцены, падает без чувств - это лучшая сцена в спектакле. Акунинская «Чайка», тоже в постановке И. Райхельгауза, порадовала большей динамикой развития действия и большей рельефностью образов. Впрочем, к этому располагает сам текст пьесы Акунина, где, в отличие от чеховского, много, что называется, смысловых лакун, заполняемых (или не заполняемых) постановщиком. Во второй «Чайке» произведена занимательная замена маски, так сказать. Саид Багов из Треплева (которого он играл в «Чайке» Чехова) превращается в Медведенко, который теперь, пожалуй, - самый заметный персонаж на сцене. Эдакий шут-самоуничижитель, прячущий за пазухой камень. Благодаря именно этому яркому, почти что фарсовому образу, создаётся ощущение нереальности, сна. Напомню, что второе действие «Чайки» Акунина состоит из ряда дублей, в каждом из которых выясняется, что один из героев убил Треплева. Чем ближе к финалу, тем менее убедителен мотив убийства и потому более абсурдно само действо. Постановка получилась довольно остроумной. Тело Треплева, на фоне которого Дорн (Альберт Филозов) ведёт расследование, в каждом последующем дубле всё более скрыто декорацией от глаз зрителя, подобно тому, как более отчётливой становится условность происходящего. Порадовала и импровизация актёров: посмеялись вдоволь. Только не до смеха становится, когда размышляешь вот о чём. Позиция столичного театра по отношению к провинциальному зрителю - совершенно отчётлива. Режиссёры привозят что-нибудь «попроще», актёры работают вполсилы... Но зритель-то в театр ходит, уж поверьте, не на лица знаменитостей смотреть, а получить пищу для ума и сердца... Что ж, похоже, в наших провинциальных театрах такой пищи зачастую больше.