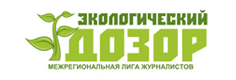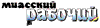По данным заместителя министра АПК по организации производства селькозподукции и племработ Александра Абрамова, Нижегородская область ежегодно потребляет порядка 230 тысяч тонн зерна – 180 тысяч тонн пшеницы и 50 тысяч тонн ржи. А для того, чтобы загрузить полностью нижегородские мукомольные заводы, необходимо 400-450 тысяч тонн зерна. В региональном бюджете на создание зернового фонда предусмотрена сумма в 50 миллионов рублей. По ценам первой половины осени на эти деньги можно купить примерно 10-15 тысяч тонн зерна, то есть 5-7 процентов от того, что области необходимо на год. Разумеется, этого мало. По мнению генерального директора ЗАО «ПФК «Нижегородхлебопродукт», заместителя председателя Агропромсоюза России Вячеслава Гальянова, на областной зерновой фонд необходимо выделить сумму в четыре раза больше – 200 миллионов. Но возможности регионального бюджета, к сожалению, ограничены. Однако и скромного запаса могло бы хватить на критический период конца весны, когда цены на хлеб взвинчиваются из-за недостатка и дороговизны зерна.
Ежегодные сложности с закупкой зерновых и весьма ощутимым ростом цен на хлеб выглядят несколько странно на фоне того, что Нижегородская область, по подсчетам специалистов, может сама выращивать около 1,5 миллиона тонн зерна. Хроническое сокращение посевных площадей привело к уменьшению этой цифры, и в этом году валовой сбор зерна составил 926,3 тысячи тонн – по сегодняшним меркам, результат вполне приличный. Но, как бы там ни было, эта цифра значительно больше того, что жители региона потребляют за год. То есть обеспечить собственные потребности область в состоянии. На практике же каждый год регион сталкивается с недостатком зерна, и мукомолы вынуждены закупать часть зерна в соседних областях и республиках.
Желание нижегородских сельхозпроизводителей придержать зерно до того времени, когда оно будет стоить дороже, - вполне понятно. Зачастую крестьяне вынуждены брать кредиты под залог будущего урожая. Полученные средства идут на покупку горючего, чтобы собрать зерно. После завершения уборочной зерно продают, а выручка идет на погашение кредита. Понятно, что возвращать приходится больше, чем брали – с процентами. В лучшем случае сельхозпроизводители срабатывают в ноль. Все, что они от этого имеют, - галочка где-то в документах, что сеяли и собирали. Значит, еще существуют. О получении какой-то значительной прибыли, к сожалению, говорить не приходится. А нередко финансовый результат их деятельности и вовсе отрицательный. Оборотных средств нет, техники нет, новых технологий нет, людей нет, зарплаты маленькие и нередко задерживаются на несколько месяцев. Считать селян виновными в дорожании хлеба – несправедливо, тем более что доля сельхозпроизводителя в цене продукта номер один – минимальная.
Итак, зерно есть, но его предпочитают продавать в последний момент или отправлять на экспорт. Осенью его еще много, и десяток тысяч тонн для зернового фонда можно было бы закупить прямо в регионе, исключив затраты на транспортировку. Но фонда пока нет. А в дальнейшем это может обернуться очередным скачком цен на хлеб и усилением социальной напряженности.
Дарья КАЗАНЦЕВА.