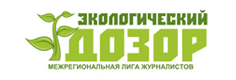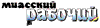Открылась самая масштабная выставка Марка Шагала из всех, что случались в России и СССР. Она позволяет подробно изучить мифологию родившегося бездыханным художника.
За последние годы у нас возникла иллюзия хорошего, едва ли не исчерпывающего знакомства с творчеством Марка Шагала. Изданы горы книжек с мемуарами и альбомов с репродукциями, да и персональные выставки возникают практически каждый сезон.
Правда, чаще всего это коммерческие показы тиражной графики: в этой сфере художник наработал богатый, но всё же вторичный по отношению к самому себе репертуар. Можно ещё вспомнить выставку-продажу поздней живописи Марка Захаровича в ныне упразднённом Центре искусств на Неглинке – зрелище было довольно эффектным и по-своему полезным с точки зрения арт-рынка, но всё-таки нерепрезентативным. Увидеть шагаловские шедевры на стенах Третьяковки или Русского музея удаётся редко: эти полотна вечно циркулируют на зарубежных гастролях.
Знакомство же с работами маэстро по репродукциям – поверьте, эрзац знакомства.
Шагал боготворил краску как вещество, так что поверхность его холстов никогда не бывала идеальной плоскостью.
Не говоря уж о воздействии реального, а не книжного или экранного формата, об отсутствии искажений, свойственных любой цветопередаче. Об энергетике, наконец.
Подлинник есть подлинник.
Нынешняя ретроспектива Марка Шагала в Третьяковке – самая масштабная и представительная из тех, что случались в России и Советском Союзе. Под выставку отведены все залы Инженерного корпуса, где расположились почти две сотни экспонатов.
Но дело, конечно, не только в объёме и количестве. Кроме отечественных держателей наследия (ГТГ, Русского и Пушкинского музеев) в проект вовлечены Центр Помпиду и национальный музей «Библейское послание Марка Шагала» в Ницце. А среди частных владельцев, предоставивших работы для выставки, значатся две внучки художника. В сумме получился весьма эксклюзивный показ. К примеру, трёхметровое полотно «Гостеприимство Авраама» (тот же сюжет, что и в «Троице» Андрея Рублева, но решённый, разумеется, совершенно неканонически) никогда прежде не покидало Лазурного берега. Да и Центр Помпиду не очень просто склонить к массированной выдаче экспонатов, тем более в Россию. Так что заглавие «Здравствуй, Родина!», полученное выставкой по названию одной из работ Шагала, перестаёт казаться чересчур пафосным.
Художник успел при жизни вернуться на Родину (именно с большой буквы: в 1973 году он побывал в Москве и Ленинграде, но так и не решился посетить Витебск). Как известно, он десятилетиями не давал затухнуть своей ностальгической грусти, превратив её в бесперебойный источник вдохновения.
Едва ли Витебск был таким уж райским местечком, просто Шагал придавал почти мистическое значение первым годам своей жизни. Ему нравилось видеть знамение в том, что он появился на свет бездыханным, да ещё в момент грандиозного пожара, грозившего полностью уничтожить город.
По легенде, как только младенец Моисей (Марком он стал уже во взрослой жизни) издал-таки крик после стараний повитухи, на пылающий город обрушился спасительный ливень… Личную мифологию художник стремился сделать достоянием человечества, потому и возводил скучную захолустную реальность в статус чуда, превращая Витебск в символический Город с Храмом.
Вероятно, именно эта приверженность личной мифологии не позволила Шагалу примкнуть ни к какому модернистскому направлению, хотя его называли своим и кубисты, и экспрессионисты, и сюрреалисты. С точки зрения унылого искусствоведения у него сплошная эклектика: один приём оттуда, другой отсюда, третий свой, но малопонятный. По всем признакам из этого не должно было выйти ничего путного, тем более всемирно значительного. Однако Шагал – из тех редких авторов, кто пользовался лишь собственными рецептами, не давая ничьему мнению заглушить интуицию.
Абсолютная интуиция у него сродни абсолютному слуху. Вряд ли человечество до конца разобралось в хитросплетении шагаловских образов, но оно было заинтриговано и заворожено – и остаётся по сию пору.
«Газета.Ru»