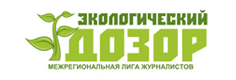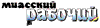Спектакль «Смерть Тарелкина» в театре Калягина поставлен как история поколения, которое собиралось изменить мир, а оказалось способным только к мимикрии.
«Смерть Тарелкина» в театре Et cetera была одним из главных ожиданий нынешнего сезона. Наконец-то, отечественные театральные продюсеры, уже несколько лет смело приглашающие на постановки мировых звёзд старшего поколения, решились позвать и сегодняшнего европейского фаворита – увенчанного всеми театральными наградами тридцатипятилетнего литовца Оскараса Коршуноваса. Говорят, Калягин, задумавший пригласить его на постановку, окучивал Коршуноваса долго – тот никак не соглашался. Решающую роль, конечно, сыграло то, что Оскарас, имевший в Вильнюсе то же самое советское детство, что и его московские ровесники, смотревший те же фильмы и читавший те же книги (недаром пять его первых спектаклей – по обэриутам), увидел, как прямо к нему домой, под видом руководителя московского театра, приехали «Здравствуйте, я ваша тетя», Платонов и прочие воспоминания.
Может быть, именно поэтому Коршуновас и «Смерть Тарелкина» парадоксально решил ставить как «поколенческий» спектакль. Во всех интервью рассказывал, что специально выбрал на роль Тарелкина не Калягина, который, видимо, поначалу на это рассчитывал, а своего ровесника Владимира Скворцова.
Как говорит Коршуновас, наше поколение готовилось жить в одну эпоху, а жить пришлось в другой. Оно думало изменить мир, а оказалось способным только к мимикрии.
И потому «Тарелкина с его способностью приспосабливаться к любым обстоятельствам может сыграть актёр, в личном опыте которого есть подобные переживания».
Развивая тему мимикрии, Коршуновас придумывает стильные полосатые декорации и одевает своего главного героя в полосатый костюм, отчего тот почти совсем сливается с фоном. Глумливое сухово-кобылинское обвинение Тарелкина в том, что он оборотень, поскольку «оборачивается в стену» для Коршуноваса не так уж и двусмысленно. Да, оборачивается, но не в том смысле, что пописать отошел, как говорит дворник, а в том, что становится стеной.
Пьеса и впрямь получает у Коршуноваса какие-то мистические обертона: время от времени раздаётся громовый рык и вурдалачье урчание, по экрану, который служит задником, несутся в облаках непонятные доисторические птицы и страшные всадники.
А когда Варравин даёт показания, что Тарелкин, мол, признавался, будто он заяц и его травят кредиторы, - стоящие в углу друг на друге два огромных шара вдруг превращаются в зайца: сверху выскакивают уши, и загораются красные глаза-фонари.
Вообще-то спектакль в Et cetera производит странное впечатление: похоже, что в нём несколько спектаклей сразу, будто Оскарас так до конца и не решил, какой именно он ставит. Отдельно – история о неудачливом обманщике Тарелкине и разоблачившем его генерале Варравине. Калягин играет старую лису, он сидит в углу сцены, а на экране в это время появляется его лицо крупным планом. Он смотрит потухшим взглядом из-под набрякших век, медленно, по-стариковски жуёт какую-то кашу, голос его старчески дребезжит, а интонации спокойны, даже ласковы, но железо в них различаешь сразу. Надо видеть, как в минуту торжества Варравин танцует, всё с тем же невозмутимым видом выделывая фортели своей тростью под изумительный косой-кривой мотивчик Гинтараса Содейки. Варравин тих, а Тарелкин суетится, корчится, кричит, но на экране у Скворцова застывший испуганный взгляд.
Отдельно от этой пары существует остальной спектакль – кривляющиеся пародийные персонажи, вроде раздутой от «толщинок» Мавруши или похожей на кафе-шантанную певичку Брандахлыстовой с огромным гуммозным носом. Да ещё гротескный «балет», которого так много было в ранних спектаклях Коршуноваса. То спляшут чиновники с набеленными лицами и поставленными дыбом волосами, то они же наденут розовые штанишки и маски зайчиков и поскачут как дети Брандахлыстовой, то станут они кредиторами и выдадут рэп. Но все эти танцы и позы, такие отточенные и эффектные у литовских актеров Коршуноваса, у непластичных актеров театра Et cetera смотрятся как-то нелепо.
Номером три идёт теневой театр, который, вообще-то Коршуновас мастерски делал ещё в «Мастере и Маргарите», где вся сцена бала у Воланда шла тенями на экране.
Вот и тут все чрезмерное, гомерическое превращается в тени, начиная с того момента, как при объявлении Тарелкина о своей смерти, на экране от него отделяется тень и начинает жить своей жизнью. Есть действительно лихо придуманные сцены, например, когда Мавруша должна для вони набить «труп» тухлой рыбой, в теневом театре она сует в брюхо «покойника» гигантских рыб, гадов, морских коньков, лягушек, даже дельфина, а оно всё пухнет, раздуваясь до шара. Или сцена обжорства Расплюева, о которой он рассказывает Тарелкину. На экране он начинает с еды, потом засовывает себе в глотку целиком огромную бутылку, снимает с собутыльника сапог, и тоже закидывает в рот, потом и ногу, а в конце-концов вытаскивает из соседа целиком скелет и заглатывает его. А когда мучают Тарелкина в участке и не дают ему воды, теневые картины показывают и маленького Тарелкина, которого проглаживают утюгом, и как он скачет, посаженный в бутылку, и как изо рта у него вырываются клубы дыма.
Но, знаете, что производит самое сильное впечатление в спектакле Коршуноваса?
Гениальный текст Сухово-Кобылина.
Текст не просто уморительный, но поразительно актуальный – ничего лучше про нашу судебную систему вообще сказать невозможно. Коршуновас пользуется этим только однажды, когда Расплюев вытаскивает купца Попугайчикова прямо из первого ряда. Тот, одетый в современное, как и прочие зрители, легкомысленно смеётся, пробует откупиться – не удается. Пристав Ох торжествует: «- Не прошло ещё наше время!».
Слушаешь текст и беспрестанно представляешь себе всех юкосовских сидельцев.
«Очень важный преступник? Политический? – Больше! – Что ж больше, чем политический?». Или вопль Тарелкина при вопросе «Кто твои сообщники?»: «- Весь Петербург, вся Москва!». Но главные слова, конечно, у Оха: «- Следователь может всякого, кто ни будь, взять и посадить в секрет!».
«Газета.Ru»